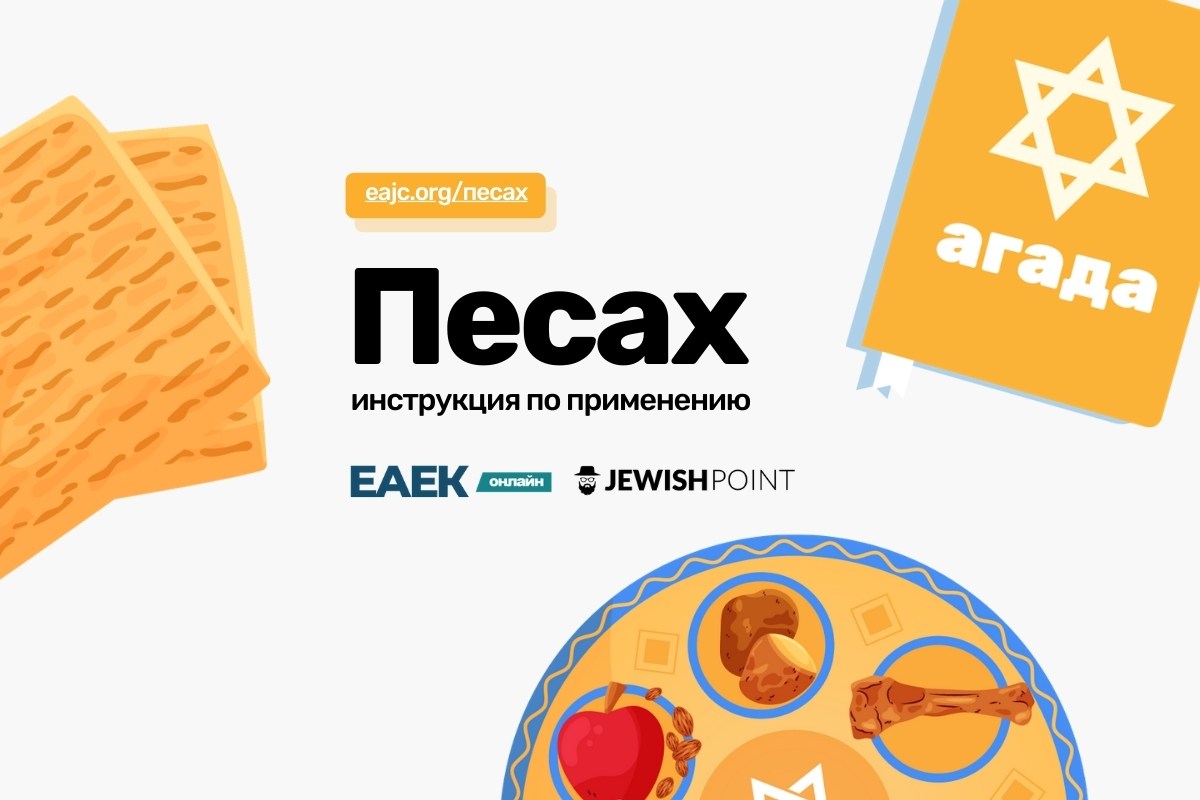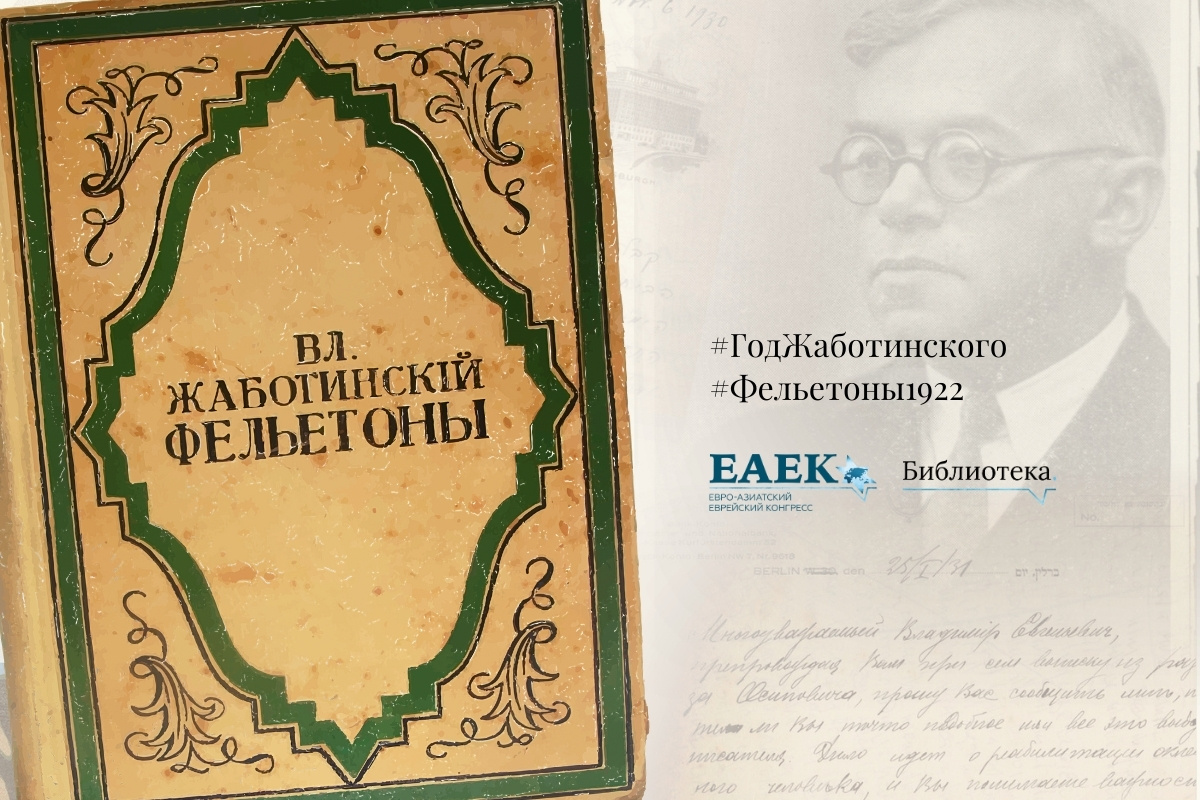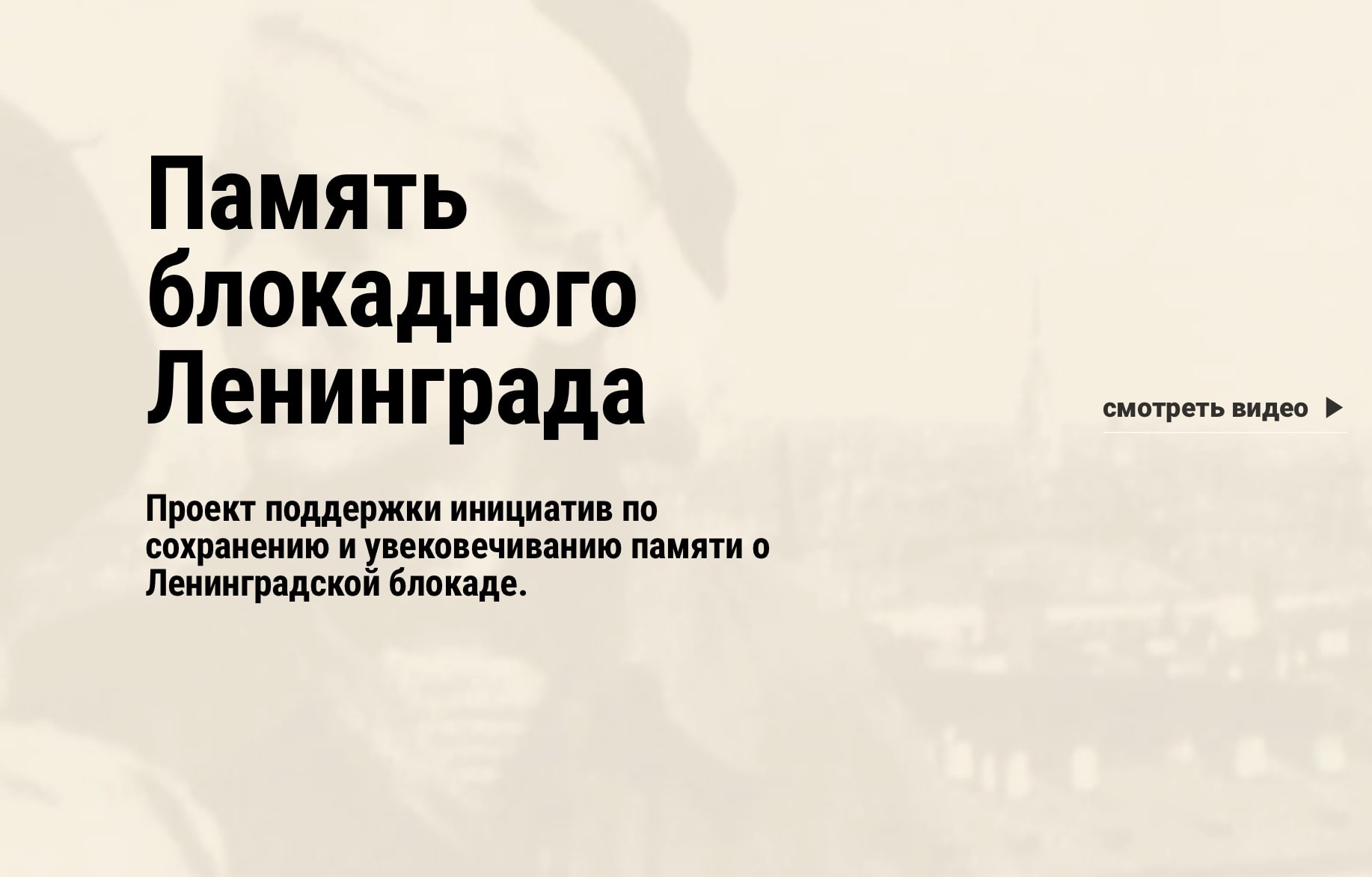Рукою сильною и мышцею простертою
Всегда это было весной. Мама с папой начинали шептаться, или, что еще хуже говорить на каком-то языке, которого я не понимала. Что-то такое, недоступное мне, их объединяло, делало близкими и родными, а меня совсем чужой. Я была вычеркнута из их жизни, казалось, навсегда, и очень тревожилась. Мама куда-то уходила, а папа её с нетерпением поджидал. Потом уходил папа, а мама нервничала. И бегала к Гиршам звонить по телефону.
После этого, вдруг, ни с того ни с сего, начиналась генеральная уборка: «Ну, почему сейчас, ведь Первое мая еще не скоро?» — ныла я. Но меня, разумеется, никто не слушал. Мама мыла окна, кастрюли терла песком, стирала занавески и портьеры, убирала в шкафах, что-то выбрасывала, завернув в газеты. В общем, начинался какой-то ужас чистоты. Для справедливости, заметим, не такой уж частый в нашем доме.
Проходило несколько дней, и мама, уже не таясь меня, говорила папе: «Я обо всем договорилась», но поскольку было непонятно о чем, это звучало так же, как на непонятном языке. А потом мама, достав из шкафа что-то, заворачивала это что-то в скатерть, скатерть аккуратно складывала в холщовый мешок, мешок прятала в сумку, и, взяв у папы деньги, уходила на целый день. И еще было одно непонятное действие, как в фильмах про шпионов – мама надевала платье с длинными рукавами, которое носила только осенью, фильдеперсовые чулки – тоже деталь осенне-зимнего гардероба, покрывала голову платочком, превращаясь в чужую тетеньку.
— Ты только не садись на трамвай – советовал ей папа.
– Лучше иди пешком, когда стемнеет. А я тебя буду встречать у фонтана.
— Но я же не знаю, когда буду возвращаться
— Не волнуйся, я все равно тебя буду ждать.
Мама уходила, поцеловав меня на прощание. И эти все сборы, переодевания, договоры о встрече с папой, наполняли мое сердце страхом. Куда она пошла? Зачем взяла мешок? Почему одна? Этот день можно было считать потерянным. Вернувшись из школы и никого не застав дома, что я страшно любила в обычные дни, я начинала тревожиться. Можно было есть варенье столовой ложкой прямо из банки, лежать на диване, не снимая форму, или взять Мопассана из шкафа. Но ничего не хотелось. Я садилась на стул, и замирала. Время тянулось медленно, стрелки часов еле двигались, и мне казалось, что мама не придет никогда.
Но мама всегда возвращалась. Возбужденная, страшно довольная, румяная, без платочка на голове, она выглядела счастливой. Ее под руку вел папа, у которого в другой руке был огромный, но легкий пакет. Было видно, что он легкий. Прямо невесомый какой-то, от тяжести всегда перегибаешься, а тут папа шел, как будто он нес хрустальную пушинку. Легко, но очень осторожно, как по льду. Потом мама направлялась прямо в спальню. Это была комната без окна, вернее, окно на веранду было, но его когда-то давно замазали масляной краской. Свет не проникал в комнату — в спальне всегда царил прохладный полумрак. Сняв коричневую крафтовую бумагу и мешок, мама прятала хрустящую наволочку в шифоньер. Шифоньер закрывала на ключ.
— Сколько? – спрашивал папа.
— Четыре — шептала мама.
— Кому дадим? — Посмотрим.
— Ну, надо же.
— Конечно, конечно, о чем разговор. Всем.
Голоса становились все тише и тише. Но возбуждение не угасало даже ночью, я слышала их оживленный шепот. А дальше начиналась мука. Папа учил со мной стихотворение, которое называлось «Один козленок».Вначале оно было легким, как «Дом, который построил Джек» Маршака, где строчка цепляется за строчку и повторяется, как рефрен. И я быстро запомнила: про козленка, которого купил чей-то отец, а его съел кот, а кота загрызла собака, а козленок этот стоил две зузы. А потом пришла палка и убила собаку, а огонь сжег палку, а вода погасила огонь. — Пап, зузы, что такое? — Деньги. — Бумажные?- Монетки- Сколько ты вопросов задаешь? — Советские? — Так мы никогда не выучим. — А нам не задавали. Стихотворение оказалось длинным, и я его никак не могла запомнить. «Пришел Всевышний и поразил ангела смерти, который убил мясника, который зарезал быка, который выпил воду, которая погасила огонь, который сжег палку, которая убила собаку, которая загрызла кота, который съел козленка, которого купил мне отец за две зузы». Ужас какой-то — все погибли – и мясник, и собака, и кот, и козленок, и даже ангел смерти. Я-то думала, что ангел смерти не может умереть, это только жизнь кончается, а смерть никогда. Остался только один Всевышний. Кто это я не представляла, думала, что этот тот, кто всех выше, наверное, самый главный великан, поэтому он всех и победил. Но спрашивать уже не стала. Я тогда была послушная девочка.
А потом была другая ночь — цветная, затейливая, как сон, который хочется досмотреть до конца. Зеленой волной наплывали запахи яблок и горькой зелени, смешиваясь в прозрачном воздухе с коричневым вихрем корицы. Она сыпалась, как пепел от сожженной бумажки. Я проснулась от скрипа открываемой дверцы шкафа и хрустящего ломкого шороха. Так скрепит сухой песок под ногами. На столе горели свечи в витых бронзовых подсвечниках. «Свет отключили», – догадалась я. Тогда часто отключали электричество и вечерами мы сидели при керосиновой лампе. — Нет! – сказала мама — просто так красивее. Это была истинная правда, чуть колеблющийся свет пламени пятнами освещал стол, вместо привычной старой клеенки лежала белая скатерть, стояли красивые рюмки и тарелки с золотой каймой, прикасаться, к которым в обычные дни мне было строго-настрого запрещено. Крутые яйца, очищенные от скорлупы, тоже удивляли совершенством формы и неожиданным рассказом папы, оказывается яйца — почти единственный продукт, который при варке становится не мягким, а твердым. Рыба на серебряном блюде, украшенная звездочками свеклы и моркови, плавала в густых волнах желе. В плетенке лежали квадратные пласты чего-то похожего на тонкую фанеру, с обугленными уголками, прикрытые белоснежной салфеткой.
Мама была в крепдешиновом платье, а папа в украинской вышитой рубашке.
— Как красиво! – ахнула я!
— Сегодня Песах!
— Ура! К нам придут гости.
— Тише, тише, деточка, не кричи так, – мама погладила меня по голове.- Никто к нам не придет, и ты никому ничего не говори.
— Почему мама?! – взмолилась я, запуганная всеми этими тихими тайнами.
— Это праздник семейный. Его отмечают только дома.
— Все? — Нет, только евреи.
— А мы что – евреи?
Мама и папа посмотрели друг на друга так, что у меня сомнений никаких не осталось. Огромными, чуть влажными, коричневыми финиковыми глазами, по которым сразу распознаются в толпе разными сердитыми тетеньками и дяденьками.
— А в плетенке что такое?
— Маца!
— А что такое маца?
— Хлеб наш.
— А каждый день мы едим чужой хлеб?
— Ну, вот — засмеялась мама – «И расскажи сыну своему»*…
— Давайте, пить вино — бодро сказал папа. И налил даже мне.
И я выпила целый бокал залпом, как ненавистное молоко. У меня сразу закружилась голова, какому сыну, но тут я подумала, что мама тоже выпила вина, и, наверное, у нее, как и у меня, все в голове перепуталось.
— Мам-пап – у нас праздник, да?
— Да!
— А почему мы сидим тихо, как мышки?
— Хочешь, будем петь?
— Шепотом?
— Нет, не шепотом, просто негромко, мы с мамой начнем, а ты подпевай
— Она же слов не знает
— Ничего, сообразит.
Родители с какой-то неизвестной мне веселостью, грустно глядя друг на друга, запели песенку, в которой было единственное слово, которое улавливало мое ухо — Дайэну. Я подпевала: — Дай, дай, Эну, — и протягивала этой Эне руку. Мама и папа тихо смеялись, им было достаточно и этого – они тихонько живут, а вместе с ними я, их несмышленое дитя. И пусть конец дороги лежит в тумане, они идут, они все еще идут…
И через год, весною, с неизбежностью апреля, на нижней полке, как в фокусе, все в той же наволочке маца появлялась вновь и вновь, как появляется и исчезает все на свете. Так исчезла и наволочка, незаметно, тихо, словно её никогда и не было.
София Вишневская. Ташкент. 1990г.